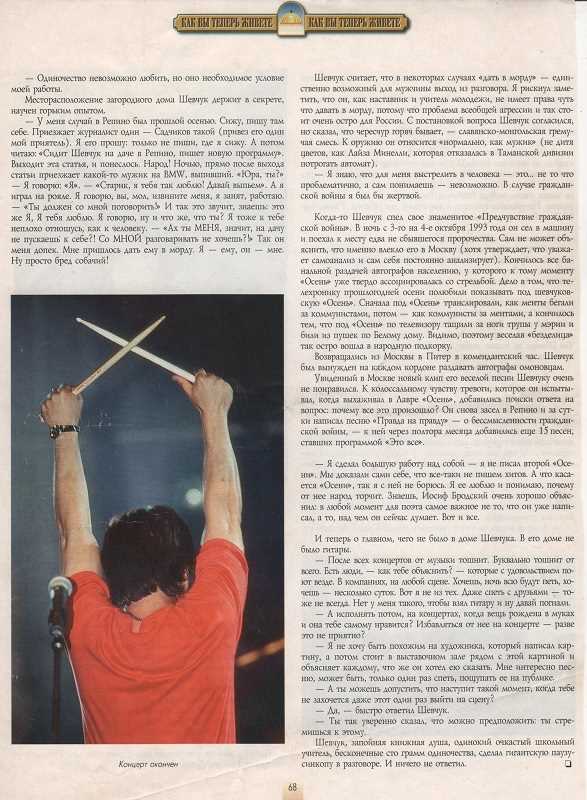С тех пор как появилась рок-группа с инсектицидным названием ДДТ, ее лидер Юрий Шевчук никуда вроде не исчезал — ни со сцены, ни с ТВ. Один из патриархов отечественного андеграунда, он бескомпромиссно выдержал гонения и нищету времен позднего застоя, чтобы стать одной из звезд так быстро и незаметно закончившейся перестройки. Такое было времечко: одни звезды — Ельцин, Собчак — собирали многотысячные горластые площади, другие — среди них Шевчук не менее горластые и многотысячные стадионы.
Но изменились времена. Как ни одному политику уже не собрать в этой стране полную Манежную площадь (и слава Богу), так и рок ушел со стадионов (то есть не рок, а опять-таки мы). Бунтовать и фрондировать — дурной тон. Из рок-звезд лишь один Шевчук со штилем не смирился. Он по-прежнему собирает стадионы. Был недавно в Москве с новой программой. Внешне все тот же неистовый, грустный и замкнутый.
Впрочем, наверное, все же изменился. Переехал, говорят, из своей коммуналки в большую питерскую квартиру, воспитывает теперь один маленького сына Петю, который проездил с ДДТ последнее гастрольное турне. Наверное, и в материальном смысле все в порядке (во всяком случае, первые номера западного рока на зарплату не жалуются). Самое время спросить: «Как вы, Шевчук, теперь живете?» В силу его замкнутости собрать на него background непросто. Фотограф «Ъ» в Питере Саша Беленький рассказал нам, что Шевчук не любит фотографироваться. В этом ничего странного, многие знаменитости не любят, но Саша уточнил, какую именно съемку Шевчук все же уважает. Например, Беленький однажды подловил момент, когда Шевчук по-староинтеллигентски протирал очки, не снимая их и щурясь набок. Показал при случае Шевчуку, и тому фотография очень понравилась. Понравилась именно тем, что на ней нет никакой неистовости, закрепленной общественным сознанием в имидже Шевчука. Сплошная простота.
Как договорились, в 12 часов пришли в квартиру к Шевчуку на Васильевский остров, на 15-ю линию (подробнее про адрес нельзя ввиду поклонников).
Шевчук был хмур и до скуки прост. Начинался уже четвертый день, как он вернулся в Питер из трехмесячного гастрольного турне, в котором обкатывалась новая программа группы ДДТ «Это все». Ее Шевчук ценит очень высоко, но в Москве некоторые представители прессы программу приняли прохладно и даже враждебно. Ему не хотелось ни с кем разговаривать, но он давно пообещал и потому говорил. Этот свой крест Шевчук нес тихо и достойно — не мы же виноваты, что он так вымотался. Было видно, что в тягость ему не только мы, но и огромная петербургская квартира с 20-метровым коридором (мы замерили по шкале объектива), имеющая совершенно необжитой, хотя и свежепобеленный вид.
Самая маленькая комната (девять квадратных метров) в этой квартире служит Шевчуку берлогой. К берлоге примыкает кубическая комната побольше, почти до потолка заставленная нераспакованными коробками с книгами. Потерянный среди этого хаоса Шевчук напоминал зрелую умудренную кошку, которая жила себе много лет в привычном доме, а потом ее посадили в корзину и выпустили начинать новую жизнь на новом месте. Ходит и фыркает на углы своей новой квартиры.
— Я месяц назад ее получил. Ну как получил — купил. Просто продал все что было, пахал на нее. Пять комнат. Две бабки здесь живут — моя мама и мама супруги, Петька и я.
До этой квартиры Шевчук жил семь лет на Фонтанке, имея две комнаты в коммуналке: в одной — он с семьей, а в другой — «бабки».
— Ты долго выбирал эту квартиру?
— Да не выбирал вовсе. Не было времени. В последний день перед гастролями ее купил, потому что тянуть дальше было невозможно — бабки воют… Хотя вид здесь не очень. Опять же, как мой приятель говорит: «На вид из окна смотришь только первые семь дней, а потом просто приходишь и ложишься спать». Видите, пока еще ничего нет. Чего тут фотографировать?
— Это даже лучше, что «ничего нет», значит, есть только самые необходимые вещи, которые лучше всего объясняют твою личность…
— …Давай табуретку… Черт, такой бардак здесь…
— Да ничего…
И Шевчук стал покорно объяснять природу своих вещей:
— Вот это мне ребята подарили.
— Выглядит как алтарь домашний.
— Да нет, просто на день рождения подарили, я не выбирал. Да, еще вот этот стол подарили, кресло…
— А раньше, до этой квартиры, у тебя не было рабочего стола творческого человека?
— Всю жизнь мечтал об этом, честно говоря, но не было.
— И во сколько лет появился?
— Все это — 16 мая этого года в день моего рождения. В 37 лет заслужил вот всякую фигню для ручек на столе.
— И много удалось записать уже за этим столом? Почувствовалось, что он стимулирует результаты?
— Нет, пока не пишется. (Уж больно все это красиво.) Пока ничего не написал. Видишь, все чисто.
Один из законов Паркинсона неумолимо гласит: как только любая крупная структура (империя, государственная организация, общественный институт и т. д.) переезжает в новое здание, тут же начинается закат этой структуры. Классический пример — Людовик XIV и его дворец.
Я сказал об этом Шевчуку, и тот показал грустной ухмылкой, что намек оценил. Но ничего не ответил.
Нетронутый стол, к сожалению, не мог дать представления о творческом методе Шевчука.
— Как ты пишешь обычно?
— Я думаю на бумаге.
— То есть море бумаги в корзине?
— Да. Есть две методики, ты сам знаешь. Ахматова, допустим, просто в голове «выхаживала» свои стихи. Блок их тоже выхаживал, но в буквальном смысле — ногами. Да, а допустим, Пушкин… Я как Пушкин! (Смех в зале.) Если мысль приходит в голову, я записываю ее на чем угодно, хоть на салфетках. Ну а потом эти салфетки и обрывки собираются, и раскладывается мысль на столе.
Свой всенародный хит «Осень» Шевчук сочинил комбинированным способом: сначала по-блоковски выходил, а потом по-пушкински легко записал. «Безделица» гения — мимоходом, между делом — пахотой над нетленкой. Он, кстати, как к безделице к ней и относится (отмечая, правда, что «хорошая, песня, правильная»):
— Это вообще-то веселая песня.
Эту веселую песню Шевчук писал на кладбище.
Бродил по кладбищу Александро-Невской Лавры (была, кстати, осень). Я там рядом жил в коммуналке на Синопской набережной, бродил в Лавре практически каждый день. Мелкий дождь моросил, и ощущение было такой тоски, печали и колоссальной тревоги… просто не передать. И она — эта песня, как пришел домой, у меня выдохнулась.
(Помните, какой легкий и светлый клип Шевчук снял под «Осень»: в нем он, Кинчев и Бутусов шатаются, обнявшись, по осеннему лесу, пинают листья и что-то счастливо орут неслышными дурными голосами, явно не про гражданскую скорбь. В конце, правда, троица с идиотскими физиономиями вдруг дружно стреляется из кольта Шевчука, но явно дурачатся.)
Еще на столе была пол-литровая чайная чашка, со вкусом расписанная.
— Но чашка, видно, своя, старая, родная и любимая?
— Чашка — да. В Гжели подарили, — рассеянно и противоречиво ответил Шевчук. Я поймал себя на мысли, что родную чашку Шевчук тоже не покупал, как и стол со стеллажом, напоминающим алтарь рок-религиозного культа.
Потом в течение дня я еще много раз отмечал, что Шевчуку много дарят. Иногда — совсем мелочи. Но очень концептуальные для Шевчука.
Например, еще в начале разговора я отметил, что фирменная шевчуковская щетина регулярно подравнивается с помощью триммера — специальной машинки. Мне стало профессионально приятно, что я расколол кухню тщательного создания имиджа рок-звезды. Ведь у Шевчука действительно очень продуманный и умный stylish image: очки, небритость, нестриженые волосы (именно «нестриженые», а не «отпущенные»), потертая кожанка, что там еще?.. Ведь мог бы линзы вставить, побриться, на голове сделать оранжевый гребень, серьгу в ухо, нахлобучить косуху, казаки и цепи, а вместо Marlboro перейти на «Беломор». Я поддел Шевчука насчет машинки для бороды и имиджа.
— Это мне московские друзья подарили — Серега и Алексей, — спокойно сказал Шевчук и похвалил машинку.
Бороду Шевчук любит еще со времен своего художнического прошлого. С теплым чувством он рассказал, какая у него была раньше борода: смеха ради прятал иногда в нее кисточки, пачки с сигаретами (сразу две входило).
Еще он пользуется незаурядным одеколоном «Эгоист». Но терпеть его не может из-за мерзкого запаха. Купить же другой просто нет времени. Откуда взялся ненавистный «Эгоист», Шевчук не сказал — наверное, кто-то тоже подарил, и люди не виноваты, что запах не подошел.
— А сам ты любишь красивые вещи покупать?
— Хорошую аппаратуру люблю. Но это, опять же, наша работа, от нее зависит качество. Поэтому мы все деньги вбиваем в аппаратуру и покупаем только лучшее что есть.
— Короче, ты не предмет материальной заинтересованности бандитов.
— Да какой уж я с материальной стороны предмет?
— А тебя никогда всерьез не соблазняли?
— Конечно, бывали соблазны. Правда, долго колебаться не приходилось. Были ребятки, которые предлагали ну очень большие деньги за то, чтобы я появился на чьем-нибудь дне рождения и вместе с попсой сыграл. Три песни — машина или квартира. Мне по клубам предлагают выступать. Вот клуб «Пилот» — пожалуйста, пять тысяч баксов за выступление, другой, тоже попсовый клуб — десять тыщ баксов. Три песни — и живи не хочу. На телевидении — пожалуйста! — предлагают вести три—четыре музыкальные программы. Тоже по пятьсот — тыще баксов за передачу. За час. Когда живешь в коммуналке, знаешь, как это воспринимается? Но как на такое пойдешь?! Все сразу горит синим пламенем — все дело, все песни, все мытарства, весь твой путь. И ты никогда больше не сможешь писать песни. Вот я, например, не смог бы. Для этого надо потерять самоуважение. Все, ты — нуль. Это исключено. Я буду собирать эти стадионы, чтобы доказать: раз мы начали на стадионах, так мы на них и умрем.
У далекого от музыкального бизнеса читателя может сложиться ошибочное впечатление, что на стадионе работать как раз прибыльнее всего (больше публики — больше выручки). Шевчук объяснил:
— Это такая безумная трата денег! Ребята работают, а зарабатывают — смешно сказать — от 100 до 250 тысяч в месяц (рублей, я уточнил. — А. Л.). Совершенно все ухает в этот звук, в этот свет, в эту аппаратуру. У нас себестоимость концерта в том же «Олимпийском» была 15 тысяч долларов. То есть я не жалуюсь, я говорю, что мы доказали прежде всего самим себе: мы живем, у нас полные залы, несмотря ни на что. Вот многие сейчас — вся Москва и весь Питер — работают по клубам, никто не берет большие площадки. Даже некоторые мои друзья немножко обвиняют меня: мол, вы коммерческая группа, вы работаете на стадионах. А как же?! Когда рок-н-ролл вышел из подвалов (ты помнишь это время?) — это был 87—88-й. Забивали же любые площадки! Народ шел с удовольствием и на Гарика Сукачева, и на Костю Кинчева, и на Славу, и на всех, на всех… На Гребенщикова. И все с удовольствием выступали на стадионах. А сейчас Гарик Сукачев вдруг по ящику говорит: «А я работаю по клубам, потому что хочу честно смотреть людям в глаза». Это что за базар такой?! Ведь сейчас собрать стадион — по-моему, труднее быть не может, согласись. ДДТ идет как раз против течения. Мы специально взяли самые крупные площадки стадионов. Но, конечно, главное — это все-таки песни. Если они хороши, то их можно петь где угодно.

С Шевчуком сложно говорить о быте. («Ох, быт — это для меня самое тяжелое».) Спросишь его по-светски о барахле, а он в ответ формулирует творческий манифест группы ДДТ. Но в общем ясно, что Шевчук не роскошествует. Хотя и не бедствует — в том смысле, что может позволить себе не замечать слишком часто быт, отвлекающий от творчества.
— Неужели тебе не хочется создать дома свой маленький мир, в котором ты себя будешь чувствовать комфортно? Ведь ничего плохого в хороших вещах нет. Платон, кажется, сказал Диогену, что это худший вариант спеси — демонстрировать свое презрение к хорошим и дорогим вещам.
— Я знаю этот диалог. Ну почему спеси? Счастлив не тем, где ты живешь, на чем спишь, что ешь. Я как-то десять лет уже по углам. Мне база нужна, рабочий стол, гитара, студия.
Еще на его черных 507-х Levis видны следы наглаженных стрелок, что я поначалу отметил как высшее достижение в работе над незаурядным имиджем. Но потом понял: ему стирают и гладят «бабки», точнее — мама. (Моя, например, бабка, Царство ей Небесное, тоже всегда упорно, до ругани, норовила навести стрелки на мои джинсы: «Брюки должны быть отутюжены».)
Когда мы уходили из квартиры, он надел кожаную куртку, очень похожую на знаменитый шевчуковский кожан, который хранится в студии (тот красивее истерт). Но, возможно, для Шевчука эта будущая реликвия рока является не концертным, а парадно-выходным вариантом. Должен же быть у человека выходной гардероб? А я не заметил в квартире никаких других пиджаков или курток.
Еще у него нет наручных часов. Наверное, никто пока не подарил.
Телевизор, стоящий в «алтаре», — простой советский. (Шевчук смотрит только прогноз погоды и «Новости». Заодно уж: ни одной газеты не выписывает, ни разу в жизни не голосовал на выборах, потому что «любая политическая идея — это узость мышления».) Видео нет, хотя есть несколько кассет с мультиками. Никакой музыкальной аппаратуры дома. Впрочем, он еще не все перевез из коммуналки. Похоже, что Шевчук действительно не преувеличивал, когда сказал, что «все пришлось продать».
К настоящему моменту у Шевчука не было даже машины. «Семерку» Шевчуку два года назад тоже как бы «подарили». После трех концертов ДДТ на ВАЗе автогигант выделил на группу справку на право внеочередной покупки машины. А ребята отдали справку Шевчуку. Полгода назад «семерку» угнали из-под окна: Шевчук уехал на гастроли и забыл включить сигнализацию. Он таки стал «предметом» для бандитов. (Ребята из ДДТ, впрочем, объяснили, что угнал кто-то залетный, — не знал, что тачка — Шевчука: «Бандиты Юру любят».)
— Многие негодовали, — сказал Шевчук по поводу машины, — но я философски к этому отношусь: Бог дал — Бог взял. Господь же отбирает у нас порой главное, порой не главное. Машина — не главное. Слава Богу, если она кому-нибудь помогла. И от меня она ушла за какой-то грех — я просто убежден. Конечно. Просто так ведь в мире ничего не бывает.
У Шевчука есть личный архив. Он у него в два раза больше, чем у Жванецкого. У того один портфель, а у Шевчука — два. Запыленные, они стоят в кубической комнате у основания горы коробок с книгами.
— Время нужно — разобрать. Хотел книгу написать, собрать в нее стихи. И уже ребята-издатели сами предложили. Я даже получил гонорар однажды и уже проел его. А книги все нет. Там ребята богатые, потерпят. Книга будет в общем-то рок-н-рольная, по типу ленноновских-морисоновских. Как бы хаос мыслей, стихов, рисунков, но, с другой стороны, в этом хаосе есть личность, гармония. Вот моя книга!
Шевчук, смеясь, показал нам книгу в роскошном переплете с золотым тиснением на обложке «Юрий Шевчук». Потом открыл ее: там были пустые разлинованные страницы. «Друзья подарили».
Жаль, что Шевчук еще не распаковал и не расставил книги, — личная библиотека говорит о хозяине многое.
— А жанр есть любимый? Или какие-то серии собираешь?
— Знаешь, если вернуться в 86—85-й, когда я жил на три рубля в месяц (может, про три рубля он загнул, все-таки творческая личность.— А. Л.), то покупал такую книгу, без которой просто уже нельзя прожить. Книги у меня не для развеса.
На тумбочке перед кроватью (Шевчук называет свое лежбище «моя шконка»), которая установлена на двух ящиках с книгами, лежали: отличный сборник Хармса («не поверите, купил на последних гастролях в Минске за три рубля!» Опять три рубля — все же странные у нею отношения с рублями), прозаический альманах (забыл какой), Лев Гумилев, китайская Книга Перемен, «Первозданность» Людмилы Наровчатской (книжка о праязыке, подарок автора) и «Поручение» Фридриха Дюрренматта. «Поручение» Шевчук тут же подарил фотокору Васе, который ему напомнил своим объективом одноглазого Полифема, героя пьесы Дюрренматта. И подписал: «Васе Полифему от гр. ДДТ».
— У нас в семье была классная библиотека. Просто десятки тысяч томов. Отец собирал. Да, именно десятки тысяч. Что-то около двух—трех тысяч одних только детективов — еще 20—30-х годов! Удивительно! Мать собирала книги по искусству. Всю свою жизнь. Живопись особенно. Литературу, классику. Когда у нас были трудные времена — мы тогда жили на Кавказе, — родители продали просто за бесценок практически всю библиотеку. Для того чтобы нам было что-то есть. Отца не принимали на работу, был очень тяжелый период.
Отец у Шевчука был всю жизнь военным, воевал на фронте. Мама — почетный полярник, работала на полярных станциях радистом. Сам Шевчук родился на Колыме, где родители встретились в 1957 году. С тех пор в рок-музыканте происходит постоянный бой между загадочными славянскими и восточными генами: мать Шевчука — Фаина (Фания) Акрамовна, отец — Юлиан Сосфенович. «Я татарин на лицо, но с фамилией хохляцкой», — пел ранний Шевчук.
— Семью отца с Украины сослали где-то в конце двадцатых в Сибирь. Деда, Сосфена, расстреляли в 37-м. (Сосфен — красивое имя.) Другой дед — Акрам — мыл золото в Бодайбо. Это уже с другой стороны — ветвь Гареевых. То есть чистая Сибирь такая.
Каторжные корни дедов Шевчук не опозорил и встал на путь диссидентства сразу после окончания художественно-графического отделения уфимского пединститута. Он не соответствовал облику советского учителя: был длинноволос и независим. Но серьезно его стали гноить уже за песни — за подпольный альбом «Периферия» в 1984 году. Прошел все, что полагалось: обком ВЛКСМ (выгнали из членов. Не обкома, конечно, а всего ВЛКСМ), обком КПСС, КГБ. Уволили со всех работ, в газете травили как антисоветчика и тунеядца. В Уфе народ тысячами подписывался под письмом в защиту Шевчука, и многие ставили свой домашний адрес под подписью. За что тоже имели неприятности, а одну группу студентов даже отчислили. Шевчуку пришлось бежать сначала в деревню, а потом в Питер, где он жил по друзьям до тех пор, пока не купил в 1987-м свою коммуналку.
— Все серьезно было. Понимаешь, никакой общественности международной: это Уфа, это далеко. Тебе ласточку сделают, бросят в камеру, откроют форточку, за окном минус сорок. Вот и все, через месяц с больными почками и отлетишь. Там все просто делалось.
Удивительно, но об уходе Гребенщикова в скит на три года, о чем сам БГ объявил недавно в прямом эфире у Диброва, Шевчук с удивлением узнал только от нас. Публике же со стороны, наверное, кажется, что питерские знаменитости только тем и занимаются, что дружат или дерутся между собой. (Можно поупражняться в стиле Хармса: мол, однажды Шевчук переоделся Кинчевым и выследил на Невском проспекте Гребенщикова. «Гребенщиков, а Гребенщиков?! Как поживаешь, брат?» — «Клево, брат Кинчев! В скит вот собрался. Только, смотри, Шевчуку ничего не говори…» Ну и так далее.)
— Нет, настоящие друзья мои — слава Богу! — люди с негромкими именами.
О тех же, кто вырос с ним в одной тусовке — Кинчеве, Гребенщикове, он говорит так:
— Это мои товарищи, подельники. Это наш профсоюз. Это братки. Я их очень люблю, очень уважаю. Но они не мои друзья. Друг — это другое.
Он все же ностальгирует по андеграунду, но понимает, что старая тусовка обречена была на распад:
— Все были под одним прессом. Мы действительно ЖИЛИ в рок-клубе нашем петербургском, и все были вместе, как Костя Кинчев пел. Ну а потом Цой добавил: «Только никто не знает — в каком». Когда рухнул режим, который нас давил, рухнуло и наше замечательное рок-движение. Каждый пошел своей дорогой. И теперь в одиночку разбирается с самим собой. Если это правда о Гребенщикове, то я приветствую. Значит, человек на хорошей дороге. Думает, размышляет, ищет веру. Отойти от мира заставляет в худшем случае какое-то несчастье колоссальное, когда ты уже не способен жить в миру. В лучшем случае — осознанность того, что тебе нужно крепко подумать о жизни, напиться одиночества, побыть с Богом. Чтобы сделать следующий шаг в творчестве.

Сын Петр забежал в берлогу к отцу.
— Кем ты хочешь быть, Петя, когда вырастешь?
— Врачом, — не задумываясь ответил Петр.
Каким именно врачом — хирургом или стоматологом, Петр не знал. Но как-то чересчур убежденно для 6-летнего ребенка утверждал, что только врачом и никем иным. Шевчук помог сыну:
— Людей будет лечить, — и когда Петька вышел, тихо объяснил :
— Вы, наверное, слышали, что у нас мама умерла. Так вот, после того как Эля умерла, он мне и сказал, что найдет средство от рака.
— А он никогда не хотел, может, из желания подражать, быть «как папа» певцом?
— Нет, абсолютно. И слава Богу. У таких, как я, дети часто вырастают большим говном. Папа ведь на работе постоянно, опять же — популярность, слава, и дети часто эту папину популярность примеривают на себя, хоть ничего этого не заслужили. Это меня страшно волнует. У него все эти ростки есть. Я его не балую принципиально. Его балует бабушка, но этого достаточно. Почему я его взял на гастроли (он проехал со мной все города)? Для того чтобы он побыл с мужиками, чтобы увидел: популярность эта — обратная сторона медали, труд большой. То есть я пытался дать ему это понять. Не ради того, чтобы он вырос каким-нибудь Родионом Газмановым, — Боже упаси! Это ужасно. Натуральная трагедия, я вам скажу, для ребенка. Я хочу, чтобы Петя был нормальным человеком.
Мы встречались с Шевчуком тринадцатого.
— Петя родился тринадцатого. Поженились мы с Эльмирой тринадцатого. Тринадцатого она умирает. Просто преследует меня тринадцатое, как безумие. Мне на экзаменах всегда попадался тринадцатый билет, бред какой-то.
Шевчук сам о себе написал во вкладыше к своему двойнику «Черный пес Петербург»: «И всегда горячий чайник на столе — центр этой моей модели Вселенной». Неплохая разминка для психоаналитика — рок-музыкант, центром Вселенной для которого является чайник. Чай Шевчук не только любит, но и понимает — охотно и грамотно сказал на кухне за столом пару слов о японской чайной церемонии.
— А еду ты сам готовишь?
— Бывает, — почему-то со вздохом.
— По необходимости, или, может, как Макаревич, серьезно кулинарией занялся?
Тут Шевчук стал стебаться по поводу телепрограммы Макаревича, где тот учит народ стряпать:
— Мы с дедетешниками обсудили и подумали, что можем по понедельникам после перерыва, когда закончит Макаревич, выпускать свою передачу — о том, как гнать (самогон. — А. Л.). Учить народ, из чего можно гнать, — из арбузных корок, томатной пасты… В конце передачи по рюмке — и до свидания, дорогие телезрители. До следующей недели. Знаешь, такую хату можно сделать на студии, интерьер подходящий!
Водку он уважает («художнику без водки в России сложно пока обойтись»), но считает, что творческая личность все же может прожить без стимуляторов.
— А образ жизни не тянет сменить в тридцать семь? Меньше курить, на вегетарианство подсесть?
— Могу сказать одно. Сейчас я гораздо больше болею с похмелья, чем в двадцать лет. Тогда вообще не болел. А сейчас просыпаюсь утром — труба-а. Поэтому стараешься, конечно, пить поменьше.
В качестве релакса Шевчук предпочитает восточные единоборства, но последние шесть месяцев было не до тренировок:
— В десять утра — репетиция, в двенадцать ночи приползаешь, и остается только одно — бух спать. Раз в неделю, ну, может быть, раз в две недели выберешься в баню, там потянешься, ну и все.
С Петербургом у Шевчука сложные отношения:
— То ты его ненавидишь — просто устал от этих камней. То ты его безумно любишь. У меня это как жить с женщиной, понимаешь? Эти сковородки и кухни, бывает работа, бывают скандалы, все бывает.
— Это состояние войны именно с Петербургом-городом или с городом как таковым?
— Я не люблю город как идею. Я убежден, конечно, в нашей связи со звездами. Но эти все вещи в городе не канают. Чтобы жить по звездам, нужно идти в поле, в степь. Мы все под колпаком цивилизации, этой техники, этой грязи, этой суеты. В этом все тонет, как в болоте, и до нас не доходит, в чем наше большое несчастье. И несчастье города самого по себе.
Поэтому Шевчук уже четыре года строит себе дачу («ну дачу — это громко сказано, просто дом»):
— Одиночество невозможно любить, но оно необходимое условие моей работы.
Месторасположение загородного дома Шевчук держит в секрете, научен горьким опытом.
— У меня случай в Репино был прошлой осенью. Сижу, пишу там себе. Приезжает журналист один — Садчиков такой (привез его один мой приятель). Я его прошу: только не пиши, где я сижу. А потом читаю: «Сидит Шевчук на даче в Репино, пишет новую программу». Выходит эта статья, и понеслось. Народ! Ночью, прямо после выхода статьи приезжает какой-то мужик на BMW, выпивший. «Юра, ты?»
— Я говорю: «Я». — «Старик, я тебя так люблю! Давай выпьем». А я играл на рояле. Я говорю, вы, мол, извините меня, я занят, работаю. — «Ты должен со мной поговорить!» И так это звучит, знаешь: это же Я, Я тебя люблю. Я говорю, ну и что же, что ты? Я тоже к тебе неплохо отношусь, как к человеку. — «Ах ты МЕНЯ, значит, на дачу не пускаешь к себе?! Со МНОЙ разговаривать не хочешь?!» Так он меня допек. Мне пришлось дать ему в морду. Я — ему, он — мне. Ну просто бред собачий!
Шевчук считает, что в некоторых случаях «дать в морду» — единственно возможный для мужчины выход из разговора. Я рискнул заметить, что он, как наставник и учитель молодежи, не имеет права чуть что давать в морду, потому что проблема всеобщей агрессии и так стоит очень остро для России. С постановкой вопроса Шевчук согласился, но сказал, что чересчур горяч бывает, — славянско-монгольская гремучая смесь. К оружию он относится «нормально, как мужик» (не дитя цветов, как Лайза Минелли, которая отказалась в Таманской дивизии потрогать автомат).

— Я знаю, что для меня выстрелить в человека — это… не то что проблематично, а сам понимаешь — невозможно. В случае гражданской войны я был бы жертвой.
Когда-то Шевчук спел свое знаменитое «Предчувствие гражданской войны». В ночь с 3-го на 4-е октября 1993 года он сел в машину и поехал к месту едва не сбывшегося пророчества. Сам не может объяснить, что именно влекло его в Москву (хотя утверждает, что уважает самоанализ и сам себя постоянно анализирует). Кончилось все банальной раздачей автографов населению, у которого к тому моменту «Осень» уже твердо ассоциировалась со стрельбой. Дело в том, что телехронику прошлогодней осени полюбили показывать под шевчуковскую «Осень». Сначала под «Осень» транслировали, как менты бегали за коммунистами, потом — как коммунисты за ментами, а кончилось тем, что под «Осень» по телевизору тащили за ноги трупы у мэрии и били из пушек по Белому дому. Видимо, поэтому веселая «безделица» так остро вошла в народную подкорку.
Возвращались из Москвы в Питер в комендантский час. Шевчук был вынужден на каждом кордоне раздавать автографы омоновцам.
Увиденный в Москве новый клип его веселой песни Шевчуку очень не понравился. К колоссальному чувству тревоги, которое он испытывал, когда выхаживал в Лавре «Осень», добавились поиски ответа на вопрос: почему все это произошло? Он снова засел в Репино и за сутки написал песню «Правда на правду» — о бессмысленности гражданской войны, — к ней через полтора месяца добавились еще 15 песен, ставших программой «Это все».
Я сделал большую работу над собой — я не писал второй «Осени». Мы доказали сами себе, что все-таки не пишем хитов. А что касается «Осени», так я с ней не борюсь. Я ее люблю и понимаю, почему от нее народ торчит. Знаешь, Иосиф Бродский очень хорошо объяснил: в любой момент для поэта самое важное не то, что он уже написал, а то, над чем он сейчас думает. Вот и все.
И теперь о главном, чего не было в доме Шевчука. В его доме не было гитары.
— После всех концертов от музыки тошнит. Буквально тошнит от всего. Есть люди, — как тебе объяснить? — которые с удовольствием поют везде. В компаниях, на любой сцене. Хочешь, ночь всю будут петь, хочешь — несколько суток. Вот я не из тех. Даже спеть с друзьями — тоже не всегда. Нет у меня такого, чтобы взял гитару и ну давай погнали.
— А исполнять потом, на концертах, когда вещь рождена в муках и она тебе самому нравится? Избавляться от нее на концерте — разве это не приятно?
— Я не хочу быть похожим на художника, который написал картину, а потом стоит в выставочном зале рядом с этой картиной и объясняет каждому, что же он хотел ею сказать. Мне интересно песню, может быть, только один раз спеть, пощупать ее на публике.
— А ты можешь допустить, что наступит такой момент, когда тебе не захочется даже этот один раз выйти на сцену?
— Да, — быстро ответил Шевчук.
— Ты так уверенно сказал, что можно предположить: ты стремишься к этому.
Шевчук, запойная книжная душа, одинокий очкастый школьный учитель, бесконечные сто грамм одиночества, сделал гигантскую паузу-синкопу в разговоре. И ничего не ответил.